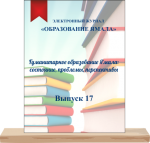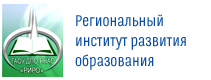Литературное наследие отца Иринарха
Литературное наследие отца Иринарха
Липатова Людмила Фёдоровна,
г. Салехард
О деятельности отца Иринарха, в быту Ивана Семёновича Шемановского, говорилось уже не раз... Он приехал в Обдорск (ныне Слехард) в 1898 году в качестве настоятеля Обдоркой православной миссии. Уехал в 1910 году. За это время он открыл библиотеку, основал музей, организовал школу для детей-сирот т.д. К сожалению, не весь книжный фонд, который он собирал в период своего пребывания на Тобольском Севере, сохранился до нашего времени, но даже то, что осталось, представляет очень большую научную ценность. На его счету много добрых дел, которые оставили свой след в истории нашего края.
В Обдорской миссии существовало две походные церкви, и отцу Иринарху приходилось много путешествовать по тундрам Ямала: зимой на нарте, летом на лодке. Он попадает в шторм на Оби, чуть не погибает в буран, ночует в самоедских чумах и остяцких юртах, посещает рыболовецкие пески рыбопромышленников. Он крестит инородцев, читает миссионерские проповеди, ищет места для новых миссионерских станов. Так, в 1899 году был устроен миссионерский стан в Хэ – конечном населённом пункте, лежащем ниже и восточнее Обдорска на 300 вёрст, на правом берегу Надымской Оби. Открытие этого миссионерского стана явилось выдающимся событием в жизни миссии, потому что он был расположен на пути следования инородцев как в Обдорск, так и на реку Полуй. Кроме того, через Хэ направлялись в Обдорск на ярмарку низовые самоеды, каменные самоеды с полуострова Ямал и надымские остяки.
Во время своих путешествий по Ямалу Иван Семёнович, кроме походного журнала, где отражалась вся его миссионерская деятельность, вёл дневники, в которых он записывал дорожные впечатления, свои размышления о жизни инородцев, делал этнографические заметки, описывал интересные встречи. В результате обработки дневниковых записей появляются очерки, которые он объединил под общим названием «Из дневника Обдорского миссионера». Очерки были изданы в журнале «Православный благовестник» в 1903-1904 годах. В 1907-1911 годах в этом же журнале вышла серия путевых заметок Шемановского «В дебрях крайнего северо-запада Сибири». Хотя он и называет себя в этих очерках «этнографом-любителем», но его описание событий, участником и наблюдателем которых ему довелось быть, чрезвычайно ценны.
Сегодня мы поговорим о литературных достоинствах его заметок. Для этого приведём только несколько отрывков, которые характеризуют Ивана Семёновича как человека, прекрасно владеющего литературным языком, а его описания природы Севера просто великолепны. Судите сами.
«Был чудный полярный вечер, когда я выезжал на оленях из селения Хэ в опоэтизированное древней новгородской летописью Лукоморье – Обдорск. Как бы висевшая над землею луна освещала своим нежным светом величавую Обскую Губу. Затвердевшая от частых крепких ветров белоснежная пелена её искрилась мириадами иссиня-белых фосфорических огоньков. Чистый воздух нехолодной ночи был так прозрачен, что можно было видеть далеко. Впереди меня и справа горизонт сливался с серо-синим небом, на котором едва виднелись маленькие северные звёзды... Кругом было таинственно тихо» [1].
Теперь представьте себя июньской ночью на Оби и сравните свои ощущения с теми, которые описывает Шемановский.
«Ночь уже наступила, когда я выезжал на большом миссионерском каюке из Пароватских юрт на песок Питлярский. На реке Оби было полное спокойствие. Многоводная на севере Обь, казалось, застыла, так было тихо. Даже течение ее едва замечалось. Зеркальная поверхность воды рельефно отражала поросший тощим полярным леском и травою горный берег, вдоль которого я ехал так медленно и плавно, будто гребцы боялись скоростью движения нарушить торжественную тишину великолепной июньской ночи, бессумеречной, светлой как день.
Я, облокотившись на мачту, стоял на крыше своего испытанного уже в бурных Обских водах каюка. Мое внимание привлекла чудная картина Уральского хребта, возвышавшегося на горизонте над водою. Спокойный, величественный, не покрытый растительностью, местами белевший от не растаявшего на нем снега, Урал фантастически освещался солнцем. Мягкие лучи полночного, ярко-красного, как кровь, солнца, проходя через белоснежные облака, окрашивали вершины Урала во всевозможные цвета, начиная от темно-пунцового, кончая самыми нежными, светлыми. Казалось, все цвета радуги играли на Урале, постоянно перемешиваясь и меняясь. А выше над Уралом, будто прикованные к месту, облака принимали самые причудливые формы и виды... Они тоже поражали глаз своими мягкими цветами так, что трудно было оторваться от этого волшебного зрелища.
Закатываясь, солнце приближалось к Уралу, приближалось быстро, разнообразя переливы своих лучей, охватывавших вершины хребта. Вот солнце почти коснулось Урала, стало опускаться на него и, как в калейдоскопе, его лучи заиграли по Уралу, раскрашенному, красивому... Я с замиранием сердца следил, как солнечные лучи стали останавливаться, застывать. Дивное освещение Урала начало делаться одинаково красным. Как вовсе остановилось в своём движении, наполовину скрывшееся за горные отроги, солнце, как почти ставший кровавым Урал застыл, стал неподвижным, тяжелым. Целых полчаса, представляясь спящим, висело солнце неподвижно... Заснул Урал... Казалось, заснула вся природа, и без того страшная своею безжизненностью в широтах Обдорского края... Я ждал восхода не закатившегося вполне солнца, в сырой гуще воздуха, представлявшегося шаром кровавого цвета...
Но вот Урал встрепенулся. На нем появились тени, легкие, подвижные. Ярко пунцовое освещение его стало незаметно переходить в цвет ярко-красный, красный, оранжевый, в другие... Все опять смешалось... Опять переливы лучей подымающегося, восходящего солнца стали окрашивать Урал в цвета радуги, сначала яркие, потом бледные, потом едва уловимые глазом. Задвигались и поплыли облачка, крутившиеся над Уралом во время солнечного заката. Солнце торопливо подымалось вверх... Последний цветной луч его, упав мягко на вершину самого высокого Уральского отрога, рассеялся, исчез. Заколебалась и задвигалась очнувшаяся от дремоты природа. Урал, так близко от меня стоявший, стал удаляться, уплывать в неведомую даль. Его тяжеловесные очертания стали становиться легкими, как воздух. Он подернулся синевой, стал голубым, как само небо. Он почти слился с небом, так эфирен и чист делался его вид на целый долгий летний день.
Стоявшие над ним облака стали уходить ввысь за солнцем, сделались тонкими, прозрачными, растаяли вовсе. Подул легкий западный ветер. На спокойно спавшей Оби появилась зыбь, тощие деревца на горном ее береге зашевелились, заговорили. Прошло около часу. Солнце уже высоко держится, нежно обдавая землю своими теплыми лучами. Обь успокоилась, ее поверхность опять приняла чистый, зеркальный вид. Опять воцарилась кругом мертвая тишина, как в пустыне... Только мерные удары по воде весел гребцов-остяков, странно нарушая тишину раннего утра, свидетельствовали о жизни...» [2].
В одном из очерков Иринарх рассказывает о том, как ему «пришлось побывать в долине реки Надым летом, провести там несколько суток под открытым небом, испытать прелесть ночёвок с мириадами комаров, в это время единственными обитателями страны так оживляемой зимою кочевниками-самоедами с их оленьими стадами...».
«При самой благоприятной погоде 9-го июля мы выехали из Обдорска, – пишет он, – летом малолюдного и скучного. Несколько суток пришлось потратить, чтобы добраться до Хэнских рыбопромышленных заведений, откуда, собственно, и должно было начаться наше путешествие в Надым, признанный профессором Аркадием Ивановичем Якобием лучшим местом для миссионерского стана и административного пункта в Обдорском крае.
Ничего нет отвратительнее этих длинных и продолжительных путешествий в лодках под медленными ударами вёсел гребцов, плывущих медленно, скрипящих, монотонно вздрагивающих после каждого взмаха весла. Настроение путешественников почти всегда скоро становится мрачным, они скоро начинают нервничать от неустанной борьбы с комарами, не позволяющими заняться никаким делом. Внутри каюка нестерпимо душно, на крыше его не на чём остановить взор. Кругом вода, синеватая полоска горного берега... А комары и там и здесь одинаково зловеще пищат и не дают ни на минуту покоя...
Мы, доехав до Ярцыног, последнего перегона в Хэ, крайне утомлённые путешествием, желчные, раздражённые решили для разнообразия пройти последние двадцать вёрст пешком зимней горной дорогой на Хэ».
«Мы вошли в приполярный лес, где чахлые деревца ельника и кривые в верхушках лиственницы друг от друга отстоят на четыре, пять и больше сажен. На земле полное отсутствие травы, Под ногами лёгкий, глухой треск от ломавшихся иногда тонких сухих веток, шум от ступания на сухой ил, какой-то неведомый мох... Что-то таинственное, волшебное было в представшей глазам картине этого леса. Ослепительное северное летнее солнце дополняло эффект. Оно самый воздух уже тёплый будто сгущало. Я остановился очарованный. Тишина мёртвая, деревья не колышутся, будто околдованы... Околдован сам чистый и прозрачный воздух, по странному восприятию впечатлений казавшийся густым... Пустыня... Но пустыня не давящая, не гнетущая, напротив, вызывающая какой-то особый восторг, редкое восхищение...
Не знаю, сколько времени я стоял, отдавшись своим чувствам, не знаю, сколько бы времени ещё простоял... я под впечатлением этой дивной картины забыл всё и вся... Даже утратил чувство к боли от комариных укусов. Только сильный окрик самоеда и внушительный его толчок в мою спину привёл меня в себя. Его, должно быть, немало подивил мой гипноз... «Чего таращишь глаза, смотри, комары тебя всего облепили», – сказал мне нетерпеливым гнусавым голосом проводник. Я провёл ладонью по лицу, и она окровенилась от раздавленного комарья. Несносная боль лица от комариных укусов заставила меня почти бежать за проводником, этим юрким маленьким северным человечком, ноги которого, казалось, не умели уставать».
Много им пришлось испытать в этом путешествии, искать нужные протоки, удивляться красоте мест, мимо которых приходилось проплывать, но вот наступило время ночёвки.
Комары, щадившие нас днем на реке, напали на нас на суше со страшным ожесточением. Мы немедля стали раскладывать большой костер и, обложив его кругом мокрым терном, уселись под самый дым, которого комары переносить не могут. Но переносить его не могли и мы. Дым ел наши глаза, попадал в дыхательное горло... В результате все мы и кашляли, и чихали, и плакали. Выходили из сферы действия дыма, чтобы передохнуть немного, но там попадались к комарам, которые сразу же целыми тысячами облепляли храбреца, чуть не с воем тотчас же возвращавшегося под спасительный кров дыма. И все-таки этими храбрецами мы все успели перебывать чуть не до пятнадцати раз за всю короткую ночевку. О чае и ужине никто и не помышлял, хотя громадный медный чайник весело кипел над костром, были принесены из лодки эмалированные чашки и холодная закуска. Запасливые самоеды устроили для защиты от комаров полог, все вместе забрались под него спать. Мой товарищ пошел спать в лодку. Хэнский проводник-зырянин, нахлобучив на голову треух своего летнего гуся, уткнулся лицом прямо на траву и закрыл голову еще для большей безопасности локтями рук. Недалеко от него расположились спать, закрыв лица платками, мои толмачи. Я же сидел у костра, подкладывая безостановочно сухие и сырые ветки деревьев и хворост. Наконец и я не выдержал. Несмотря на жгучий зуд от комариных укусов, на острую глазную боль от дыма, веки стали слипаться, и я заснул тревожным больным сном...
Спал очень не долго... Закрытый рясою, я вскоре почувствовал нестерпимый жар в ногах. Я быстро приподнялся и к ужасу увидел, что моя ряса тлеет. На нее или попала искра из непогашенного костра, или я во сне передвинул близко к пылавшему костру ноги. Я вскочил и начал тушить свою рясу – единственную свою одежду, взятую в это путешествие. Но она, к огорчению моему, очень сильно пострадала. Спать я уже не мог. Слишком повысилась нервная деятельность... Я по-прежнему сидел с самой дымной стороны костра, иногда отходил от него и начинал быстро бегать по сухому берегу нашей стоянки. Но и эта беготня не спасала от комаров. Они были везде, и их громкое пискливое жужжание начало меня прямо приводить в ярость. Я, подбежав к костру, снова стал подкладывать в него сухих щепок, решив, что для спасения от комаров нужен не дым, а большой огонь, сильный жар, действие которого комары не в состоянии будут выдержать, но который, в то же время освободит наши глаза от страданий, причиняемых дымом.
Костер начал разгораться сильным пламенем, щепы и хворост звучно трещат. Треск костра пробудил от сна одного из моих толмачей, который, быстро поднявшись, подошел ко мне. Я не мог не рассмеяться. У него все лицо было почти сплошным пузырем – так оно опухло от расчесывания зудящих мест. Он ответил мне тем же смехом. Мое лицо было все в крови от раздавливаемых комаров... За толмачом повылазили из-под полога самоеды, проклинавшие день и час, когда согласились с нами ехать в эту комариную страну. Но мы только смеялись. Комары умудрялись проникать и под полог самоедов, и с лицами их сделали то же самое, что и с нашими. Встал проводник-зырянин, осмеянный теперь уже повеселевшими самоедами. И правда, нельзя было без смеха смотреть на лица подымавшихся «со сна». Дружным смехом был встречен мой товарищ, вернувшийся к нам из лодки. Он там, должно быть, подвергся еще большей комариной атаке. Поднялись все. Решили скорее напиться чаю и выехать в реку, где комаров значительно меньше. Час спустя мы плыли. Легкий ветерок приятно освежал наши горевшие лица, и если бы не крайняя усталость от невозможности выспаться, мы, должно быть, скоро забыли бы ужасы ночевки в этих гиблых местах.
Когда же закончилось это путешествие, и отец Иринарх возвращался в лёгкой лодке в Обдорск, «ехал, конечно, быстро, так как всё время одолевали комары. Но когда вспоминал комаров надымских, то над обскими невольно подсмеивался...» [3].
А как же встречали Рождество сто лет назад в нашем Обдорске? Ставили ли ёлки? Как дети отмечали этот праздник? Послушайте, как описывает это событие Иван Семёнович Шемановский в одном из своих рассказов, который он так и назвал «Ёлка».
«Для успеха своего дела я должен был стать человеком, могущим понимать чувства и душевное состояние всяких людей: богатых и бедных, честных и воров, счастливых и несчастных...
И мне пришла на помощь елка, подружившая меня с детьми, влиявшими в мою пользу и на своих родителей... И в зрелом возрасте, теперь, одно слово – елка – заставляет меня невообразимо волноваться и лить слезы радости. Елка сделала то, что не в состоянии была сотворить моя любовь к людям...».
Инородческой детворе объявлено было об устройстве для них особого праздника – елки. С интересом ожидали дети неведомой им елки. Она превзошла их ожидания. Было редкое у инородческих детей заразительное веселье. Приятно было видеть их, постоянно угрюмых, с горящими от удовольствия ласковыми глазенками...
Дети-ученики заблаговременно готовились к своему празднику, заучивая басни, стихотворения, хорошие песни. Елка удалась на славу. Пышная, нарядная, красивая, она превзошла ожидания с более утонченным вкусом обдорских обывателей. Но инородческие детишки превзошли самих себя. Они сначала конфузились в необычной для них обстановке в присутствии многочисленных русских гостей. Поощряемые же гостями становились увереннее и смелее. Выразительно сказывали басни, прекрасно произносили стихотворения, хорошо пели, и ими нельзя было не удивляться. Боязливые и робкие, неуверенные в своих движениях при посторонних, считающие себя хуже детей русских, они сумели овладеть общим к себе вниманием и на елке сделались неузнаваемыми. Награждаемые дружными аплодисментами за хорошо рассказанную басню или прочитанное стихотворение, они удалялись с горящими от удовольствия глазами, с гордо поднятыми головами, с сознанием своего достоинства. Самые фигурки их и походка свидетельствовали, что они считают себя не хуже русской детворы, свысока смотрящей на остяков и самоедов по примеру своих отцов. Хорошо пропетые русские хороводные песни инородческими детьми вызвали общий восторг, сделавший их вполне счастливыми. Родители-инородцы с расплывшимися на их лицах блаженством открыто заявляли, что их детишки совсем как русские. Но сами ребятишки не захотели вполне быть схожими с детьми русских обывателей.
Окончив репертуар песен и стихотворений русских, повторив многие из них, развеселившаяся детвора перешла на пение своих отцовских песней и на родные танцы. Раздалось сначала где-то в группе детей тихое заунывное остяцкое пение. Все вдруг стихли. А песня полилась громче и громче. Альт девочки-остячки разносил по зале грустную мелодию. Дружным хлопанием в ладоши всех присутствовавших закончено было пение. Переконфуженную, раскрасневшуюся, со слезами на глазах вывели маленькую певицу на средину залы к елке. Она, опустив глаза, стала перед публикой без движения. Ее стали просить спеть еще что-нибудь, но она долгое время отказывалась и уступила общему желанию послушать ее еще раз только после многократных убеждений. И опять высокий голосок девочки грустно полился на этом детском празднике веселья...
После девочки-остячки пел мальчик-самоед… В их пении сказывалась необъятная, тихая и грустная тундра... Борьба с природой, по прихотям которой гибли предки, стоявших перед нами певцов... Их сильная жажда жизни и желание выйти победителями в этой неравной борьбе... Уверенность в победе... торжество победное, нашедшее выражение в национальных плясках, диких, но свидетельствовавших о гордой мощи...
Детские глазенки их искрились самодовольствием, уверенностью в себе и в своих силах... Родные песни их всколыхнули. Раскрылись их сердца, крепко связанные с устоями отцовской жизни... Они будто хотели доказать русским гостям, что обученные по-русски все же остались самоедами и остяками, остались самими собою, верными заветам своих отцов и дедов.
Стоя в стороне, я наблюдал при разборе елки интересные картины. Родители инородческих детей, осматривая елочные украшения, обращали особое внимание на разных кукол. Перед одной из них, изображавшей «дедушку-мороза», некоторые низко кланялись, произнося приветственные слова. В публике начал было раздаваться смех, но я остановил его, привлек внимание инородческих детей на их родителей. Детишки с важностью стали разъяснять своим отцам, что эти куклы – простые игрушки, не имеющие никакой магической силы, что им не следует поклоняться, что назначены они для забавы маленьких детей. Старцы сначала полуудивленно и недоверчиво слушали своих детей, а потом, убежденные ими, стали ласково смотреть на свою детвору, успевшую публично доказать, что, учась грамоте и живя русской жизнью, они все-таки инородцы, любящие все свое родное. Родители, остяки и самоеды, довольные всем виденным и слышанным, не скрывали своего восхищения и высказывали, что такое учение их детей хорошо и полезно…».
Если кто-то заинтересуется литературным наследием отца Иринарха, то может почитать книгу «И. С. Шемановский. Избранные труды», которую мне довелось подготовить к изданию.
Список литературы
-
Журнал «Православный благовестник», 1907. – № 20. – С. 167.
-
На Оби // Православный благовестник. – № 11. – С. 495-497 (в книге музея С. 44-46).
-
Очерк «В долине реки Надыма».
Электронный журнал «Образование Ямала»
Интернет-компания СофтАрт